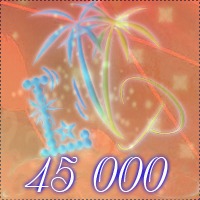– О чем ты думаешь?
– Ни о чем.
Пусть это не кончится никогда, думала она. Пусть это существование, промежуточное между жизнью и смертью, зависшее на краю какой-то странной бездны, сможет продлиться до тех пор, пока я однажды снова не скажу слова, которые будут правдой. Пусть его кожа, его руки, его глаза, его рот сотрут мою память, чтобы я родилась заново или умерла, чтобы произнести старые слова как новые, чтобы они не звучали предательством или ложью. Пусть мне – пусть нам хватит времени для этого.
Они никогда не говорили о Блондине Давиле. Сантьяго был не из тех, кому можно рассказывать о других мужчинах, а она не из тех, кто это делает. Порой, когда он лежал рядом, совсем рядом, дыша в темноте, вместе с его дыханием она, казалось, слышала и вопросы. Это случалось и до сих пор, но такие вопросы уже давно стали просто привычкой, обычным неясным шорохом всякого молчания. Вначале, в те первые дни, когда все мужчины, даже случайные, норовят заявить о своих – невесть откуда взявшихся, но всегда откуда-то берущихся – правах, претендующих на нечто большее, чем просто физическое обладание, Сантьяго задавал некоторые вопросы вслух. По-своему, конечно. Не напрямую, а иногда и вообще никак. И все бродил вокруг, точно койот, привлекаемый огнем, но боящийся приблизиться. Он слышал кое-что. Друзья друзей, у которых, в свою очередь, есть еще какие-то друзья. Но нашла коса на камень. У меня был мужчина, отрезала она однажды, когда ей надоело видеть, как он все вынюхивает вокруг да около, когда вопросы без ответа оставляли пустоты, заполненные невыносимым молчанием.
У меня был мужчина – красивый, смелый и глупый, сказала она. Очень ловкий. Такой же негодяй, как и ты – как все вы, – но он взял меня совсем девчонкой, молоденькой, не знавшей жизни, а в конце концов подставил меня, да так, что мне пришлось бежать без оглядки, и суди сам, долго ли я бежала, если оказалась там, где ты меня нашел. Но тебя не должно волновать, был у меня мужчина или нет, потому что тот, о ком я говорю, умер. Его спустили на землю, и он умер – так же, как умираем все мы, только раньше. А чем этот мужчина был в моей жизни – мое дело, а не твое. И после всего этого, однажды ночью, когда их тесно сплетенные тела составляли одно целое и в голове у Тересы было восхитительно пусто – ни памяти, ни будущего, только настоящее, плотное, густое, жаркое, которому она отдавалась без угрызений совести, – она открыла глаза и увидела, что Сантьяго, перестав двигаться, смотрит на нее в полумраке близко-близко, а еще увидела, что его губы шевелятся, и когда она вернулась наконец туда, где они оба находились, и прислушалась к тому, что он говорит, первой ее мыслью было: галисийский кретин, идиот, как и все они, идиот, идиот, идиот – задавать такие вопросы в самый неудобный момент: я и он, я лучше или он лучше, ты меня любишь, а его ты любила? Как будто все можно свести только к этому будто в жизни есть только белое и черное, хорошее и плохое, тот хуже этого или этот лучше того. И внезапно она ощутила, как стало сухо во рту, и в душе, и между ног, почувствовала, как полыхнула где-то внутри новая ярость – не потому, что он снова задавал вопросы и выбрал неудачный момент, а потому, что это было элементарно, глупо, и он искал подтверждения тому, что не имело никакого отношения к ней, вороша то, что не имело никакого отношения к нему; даже не ревность, а гордыня, привычка, бессмысленная мужественность самца, отгоняющего самку от стада и отказывающего ей в любой иной жизни, чем та, что проникает в нее вместе с ним. Поэтому ей захотелось обидеть его, сделать ему больно, и она оттолкнула его и почти выплюнула ему в лицо: да, правда, конечно, правда, интересно, что ты себе воображаешь, галисийский идиот. Может, ты думаешь, что вся жизнь начинается с тебя и твоего распроклятого мужского достоинства? Я с тобой потому, что у меня нет лучшего места, или потому, что я поняла, что не умею жить одна, без мужчины, который был бы похож на другого, и мне плевать, почему он выбрал меня или я выбрала первого, какой мне попался. И, привстав, голая, еще не освободившись от него, она залепила ему пощечину, такую крепкую, что у него даже голова дернулась в сторону. Она хотела сделать это еще раз, но тут он, стоя над ней на коленях, сам ударил ее по лицу – спокойно и сухо, без гнева, может даже, с удивлением; а потом, так и стоя на коленях, не шевелясь, смотрел на нее, пока она плакала – слезами, рождавшимися не в глазах, а в груди и в горле, плакала, лежа на спине, неподвижно, выплевывая сквозь зубы оскорбления: проклятый галисиец, гад, мерзавец, сволочь, сукин сын, сукин сын, сволочь, сволочь, сволочь. Потом он лег рядом с ней и лежал некоторое время молча, не прикасаясь к ней, пристыженный, смущенный, а она по-прежнему лежала на спине не двигаясь и мало-помалу успокаивалась, а слезы высыхали у нее на лице. И это было все, и это был единственный раз. Больше никогда не поднимали они руку друг на друга. И вопросов тоже больше не было. Никогда.
* * *
– Четыреста килограммов… – понизив голос, сказал Каньябота. – Масло первоклассное, в семь раз чище обычной смолы. Товар высшей пробы.
В одной руке у него был стакан джина с тоником, в другой – английская сигарета с позолоченным фильтром, и он поочередно то затягивался ею, то делал небольшой глоток. Он был низенький и коренастый, с бритой головой, и все время потел – рубашки у него были всегда мокрые подмышками и на шее, где поблескивала непременная золотая цепь. Наверное, решила Тереса, он так потеет от работы. Потому что Каньябота – она не знала, фамилия это или прозвище – был тем, кого на жаргоне контрабандистов именуют «надежным человеком»: местным агентом, связным или посредником между той и другой стороной.